ЧЕТЫРЕ ПУТИ К ДОСТИЖЕНИЮ СВОБОДЫ. О ГЕРОЯХ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
FOUR WAYS TO ACHIEVE FREEDOM. ABOUT THE HEROES OF RUSSIAN LITERATURE
WASILIJ SZCZUKIN
 https://orcid.org/0000-0001-9083-6730
https://orcid.org/0000-0001-9083-6730
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej
Katedra Literaturoznawstwa Rosyjskiego
30-060 Kraków
ul. Romana Ingardena 3
wasilij45.szczukin@uj.edu.pl
This article contains criticism of the neoliberal concept of positive freedom. The author offers his understanding of the ideal of freedom, which is based not on economic, but on social and psychological criteria. The Hegelian understanding of freedom as a conscious necessity, according to the author, is unacceptable for modern man. It is difficult not to agree with Dostoevsky’s opinion that it is not the choice of benefit and goodness, but the obligatory nature of this choice that deprives a person of that incomparable sense of freedom (Notes from the Underground). Not only the holy spirit, but also the human spirit, blows wherever it wants, and not only where it is “necessary” or prescribed to blow. It is also impossible not to take into account the possibility of the spontaneous launch of unpredictable mechanisms of nature and culture, which Yuri Lotman wrote about in Unpredictable Mechanisms of Culture (1993). The author of the article identifies four types of positive freedom, which are expressed in the images of some heroes of Russian literature. These include skete life, described in the writings of Nil Sorsky and other Russian hesychasts, Karamazovism, Oblomovism, and, finally, “secret” spiritual freedom. The author expresses sympathy for the latter concept of positive freedom, incompatible with both anarchic tyranny and “blessed” passivity.
Keywords: freedom, Russian literature, skete life, Fedor Karamazov’s mode of life, Ilya Oblomov’s mode of life and “secret” spiritual freedom
Статья содержит критику неолиберальной концепции позитивной свободы. Автор предлагает свое понимание идеала свободы, в основу которого положены не экономические, а социальные и психологические критерии. Гегельянское понимание свободы как осознанной необходимости, по мнению автора, неприемлемo для современного человека. Трудно не согласиться с мнением Достоевского о том, что не выбор пользы и добра, а обязательность этого выбора лишает человека того ни с чем не сравнимого чувства свободы (Записки из подполья). Не только дух святой, но и дух человеческий веет где хочет, а не только там, где ему «необходимо» или предписано веять. Нельзя также не учитывать возможность самопроизвольного запуска непредсказуемых механизмов природы и культуры, о которых писал Юрий Лотман в книге Непредсказуемые механизмы культуры. Автор статьи выделяет четыре разновидности позитивной свободы, которые нашли свое выражение в образах некоторых героев русской литературы. Это жизнь скитская, описанная в сочинениях Нила Сорского и других русских исихастов, карамазовщина, обломовщина и, наконец, «тайная» духовная свобода. Автор выражает симпатию к последней концепции позитивной свободы, несовместимой как с анархическим произволом, так и со «благословенной» пассивностью.
Ключевые слова: свобода, русская литература, скитская жизнь, карамазовщина, обломовщина, «тайная» духовная свобода
Свои размышления мне хотелось бы начать со следующего фрагмента из Зимних заметок о летних впечатлениях Достоевского[1]:
[...] Что такое liberté? Свобода. Какая свобода? Одинаковая свобода всем делать всё что угодно в пределах закона. Когда можно делать всё что угодно? Когда имеешь миллион. Дает ли свобода каждому по миллиону? Нет. Что такое человек без миллиона? Человек без миллиона есть не тот, который делает всё что угодно, а тот, с которым делают всё что угодно [...][2].
Эти слова обычно звучат на одной из моих лекций о Достоевском. Услышав их, студенты одобрительно кивают головами: дескать, так оно в жизни и бывает[3].
Двадцатый век, казалось бы, окончательно убедил всех в мире, что прав оказался не Достоевский, который по бедности своей был вынужден брать у издателя Федора Стелловского авансы за ненаписанные романы, и не целая плеяда разочаровавшихся в Западе русских писателей и мыслителей – Герцен, Лев Толстой, Салтыков-Щедрин, Николай Трубецкой, Александр Зиновьев и многие другие. Социалистическая альтернатива свободной конкуренции тех, кто имеет миллион, с теми, у кого его нет и не будет, продемонстрировала свою несостоятельность. Более того: реальный социализм не обошелся без массовых преступлений и самого циничного насилия против личной свободы отдельных людей и против самой человечности.
Но ведь и реальный капитализм не оправдал надежд, возлагаемых на него теми, кто посвятил себя борьбе с реальным социализмом.
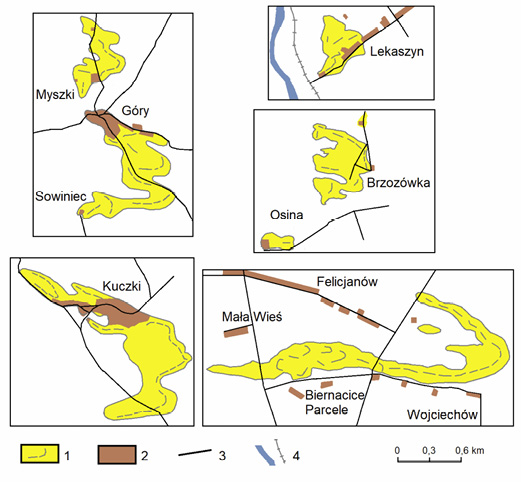
В начале девяностых годов, на заре новоявленного капитализма, пригласил меня домой к себе один краковский студент. Звали его Дариуш С. Он пообещал встречу с необыкновенным человеком, разговор с которым может принести много счастья и радости в жизни. Пришла женщина средних лет, развесила на стене какие-то таблицы и диаграммы и больше часа говорила о том, что отныне я должен ходить по квартирам и предлагать жильцам изделия известной американской фирмы, которая производит стиральные порошки, а кроме того, привлекать к этим действиям как можно больше знакомых, чтобы сеть распространителей всё время разрасталась. Когда она ушла, я спросил у Дариуша С., что это всё значило и зачем мне, историку литературы, заниматься продажей стиральных порошков. Юноша широко улыбнулся и произнес несколько слов, которые я никогда не забуду:
– Proszę Pana, to się robi dla pieniędzy! (Василий Георгиевич, это делается ради денег!).
- Возникает новый мир (с уже неязыковым образом), модель новой холодной войны которого можно определить как, несколько перефразируя У. Топорова,
- сокращенное и упрощенное представление всей суммы представлений о языке
- Русская живопись
- и западный мир
- в рамках данной традиции, однако, включенной в системный и операционный аспекты (Toporow, 1980).
- сокращенное и упрощенное представление всей суммы представлений о языке
- до уровне российских конструктов языковой картины мира следует добавить, что «обычной» войны на востоке ЕС для России недостаточно. Такие меры, как уже успешный Brexit (Евро, 2019; Турецкий, 2020) илиstricto другие нарративные действия: например, идеологическое заражение
И тогда мне стало ясно. Свобода, в объятия которой мы так радостно устремились на рубеже восьмидесятых и девяностых годов – это в первую очередь свобода ради денег, а потом уже, если получится, то и всего остального. После долгих блужданий по Котлованам и Чевенгурам мы вернулись туда, откуда пришли – в мир героев Диккенса, Бальзака и Достоевского, которые стремились стать Ротшильдами. Или даже пушкинских Германна и Скупого Рыцаря, которые уже тогда знали, что деньги дают их обладателю власть над миром.
Секция
Но всё же для чего и во имя чего должен жить человек, чтобы чувствовать себя не просто лишенным тяжких и незаслуженных ограничений, а преисполненным свободой с положительным знаком – не от чего-нибудь дурного, а для чего-нибудь хорошего?
Гегельянское понимание такой свободы как осознанной необходимости, на мой взгляд, совершенно неприемлемo для современного человека. Mысль о том, что чужая безличная сила заранее определила, что надо, а чего не надо, невольно вызывает законную реакцию Подпольного человека Достоевского на хрустальный дворец Чернышевского: не выбор пользы и добра, а обязательность этого выбора лишает человека того ни с чем не сравнимого чувства свободы. А что же это за свобода без чувства, без эмоции, без радости творения – хладнокровно? по разумному расчету? Нет уж, восклицает герой Записок из подполья: уж лучше «свету провалиться, а чтоб мне чай всегда пить» – в полном смысле свободно. Ведь не только дух святой, но и дух человеческий, иными словами, смысл и характер нашего слова и дела, веет где хочет, а не только там, где ему «необходимо» или предписано веять. Кроме того, нельзя не учитывать возможность самопроизвольного запуска непредсказуемых механизмов природы и культуры, о которых писал Юрий Лотман в своей последней книге. Их действие невозможно объяснить, не выходя за рамки категорий осознанности и необходимости.
Русская классическая
литература дает несколько ответов на этот вопрос. Каждый из них по-своему привлекателен и по-своему порочен или даже опасен. Их объединяет одна очень важная черта, которая обычно отодвигается на второй план апологетами как традиционного либерализма, как и его новейшей «менеджерской» мутации: в любом случае речь идет не о извне приходящих правах, а о внутренней свободе человеческой личности.
| Aspect | Categories / principles | Republicof Serbia | Republic of Srpska | Federation of Bosnia and Herzegovina |
|---|---|---|---|---|
| SUBSTANTIAL | Topical coverage | |||
| sustainable development | aa | ss | dd | |
| territorial cohesion | ff | gg | hh | |
| nature of land-use policy | jj | kk | ll | |
| Scale of territorial cooperation | ||||
| cross-border | ww | ee | ||
| interregional | rr | tt | yy | |
| supranational | uu | ii | oo | |
| PROCEDURAL | Vertical coordination | |||
| decentralisation | zz | xx | cc | |
| diffusion of power | vv | bb | nn | |
| subsidiarity | mm | rr | tt | |
| Multi-sectorial cooperation | ||||
| multi-actorship | eeet | ttt | wwww | |
| synergy | gfd | fs | hyt | |
| transparency | luyk | gjh | dtjky | |
| citizen participation | hsf | fg | fgh | |
| Multidisciplinary cooperation | ||||
| coordinated action | fgjh | jgh | dag | |
| holistic strategies | ljkl | jhg | dfhg | |
Source: own work.
В начале девяностых годов, на заре новоявленного капитализма, пригла-сил меня домой к себе один краковский студент. Звали его Дариуш С. Он по-обещал встречу с необыкновенным человеком, разговор с которым может принести много счастья и радости в жизни. Пришла женщина средних лет, развесила на стене какие-то таблицы и диаграммы и больше часа говорила о том, что отныне я должен ходить по квартирам и предлагать жильцам из-делия известной американской фирмы, которая производит стиральные по-рошки, а кроме того, привлекать к этим действиям как можно больше знако-мых, чтобы сеть распространителей всё время разрасталась. Когда она ушла, я спросил у Дариуша С., что это всё значило и зачем мне, историку литерату-ры, заниматься продажей стиральных порошков.
REFERENCES
ADAMS, N., COTELLA, G. and NUNES, R. (eds.) (2011), Territorial Development, Cohesion and Spatial Planning: knowledge and policy development in an enlarged EU, 46, London: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203842973
BACHE, I. and FLINDERS, M. V. (eds.) (2004), Multi-level Governance, Oxford: Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/0199259259.001.0001
BELLONI, R. (2016), ‘The European Union Blowback? Euroscepticism and its Consequences in the Western Balkans’, Journal of Intervention and Statebuilding, 10 (4), pp.530–547. https://doi.org/10.1080/17502977.2016.1211387
BIJELIĆ, B. and ĐORĐEVIĆ, D. (2018), ‘Non-compliance of spatial plans of the highest rank in Bosnia and Herzegovina’, Collection of the Papers, LXVI-1, pp.89–97. https://doi.org/10.5937/zrgfub1866089B
BOJIČIĆ-DŽELILOVIĆ, V. (2011), Decentralization and Regionalization in Bosnia- Herzegovina: Issues and Challenges. Research on South East Europe, London: London School of Economics.
BÖHME, K., ZILLMER, S., TOPTSIDOU, M. and HOLSTEIN, F. (2015), Territorial Governance and Cohesion Policy: Study, Brussels: European Parliament, Policy Department B: Structural and Cohesion Policies.
BÖRZEL, T. A. and GRIMM, S. (2018), ‘Building Good (Enough) Governance in Postconflict Societies & Areas of Limited Statehood: The European Union & the Western Balkans’, Dædalus, 147 (1), pp.116–127.
CEC (Commission of the European Communities) (2008), Green Paper on Territorial Cohesion: Turning Territorial Diversity into Strength, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.
COTELLA, G. (2018), ‘European Spatial Integration: The Western Balkans Discontinuity’, Annual Review of Territorial Governance in Albania, I, pp.156–166.
COTELLA, G. (2020), ‘How Europe hits home? The impact of European Union policies on territorial governance and spatial planning’, Géocarrefour, 94 (3). https://doi.org/10.4000/geocarrefour.15648
COTELLA, G. and BERISHA, E. (2016), ‘Territorial Governance and Spatial Planning in the Western Balkans between Transition, European Integration and Path-Dependency’, Journal of European Social Research, 2, pp.23–51.
CSD (Committee on Spatial Development) (1999), ESDP – European Spatial Development Perspective. Towards Balanced and Sustainable Development of the Territory of the European Union, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.
ČUKIĆ, I. and PERIĆ, A. (2019), ‘Transformation of the spatial planning approach in Serbia: towards strengthening the civil sector?’, [in:] SCHOLL, B., PERIĆ, A. and NIEDERMAIER, M. (eds.), Spatial and transport infrastructure development in Europe: example of the Orient/East-Med corridor, Hannover: Academy for Spatial Research and Planning (ARL), pp.272–290.
DŽANKIĆ, J., KEIL, S. and KMEZIĆ, M. (2019), The Europeanisation of the Western Balkans. AFailure of EU Conditionality?, Cham: Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-319-91412-1
EC (European Commission) (2014), Integrated sustainable urban development – Cohesion policy 2014-2020, Brussels: Office for Official Publications of the European Communities.
EC (European Commission) (2016), Urban agenda for EU, Brussels: Office for Official Publications of the European Communities.
EC (European Commission) (2020), Enlargement. https://ec.europa.eu/environment/enlarg/candidates.htm [accessed on: 20.10.2021].
ELBASANI, A. (2013), European integration and transformation in the Western Balkans: Europeanization or business as usual?, London: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203386064
Примечания
- 1 M. Błaszczak-Wacławik, Kryzys czasów – kryzys filozofii?, „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, Prace z Nauk Społecznych. Folia Philosophica” 2004, t. 22, s. 217–221.
- 2 J. Derrida, Widma Marksa. Stan długu, praca żałoby i nowa Międzynarodówka, tłum. T. Załuski, PWN, Warszawa 2016, s. 44–45.
- 3 Tamże, s. 45.